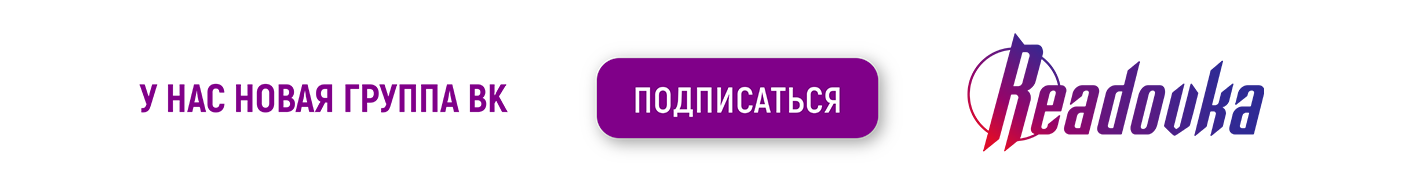Детский омбудсмен Мария Львова-Белова: «Мы занимаемся судьбами конкретных детей»

Уполномоченная по правам детей рассказала Readovka о ребятах c Украины, работе с детдомовцами и самых сложных своих задачах
В студии «Readovka Объясняет» побывала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова.
— Здравствуйте! Я начну с серии дурацких вопросов. Для начала – чем вообще занимается уполномоченный по правам ребенка? Что вы можете, чем вы должны заниматься, и что вы делаете такого, чего не может опека, не может МВД и проч.?
— Все, что касается детей, касается уполномоченного по правам ребенка. То есть, нет такой сферы, которая была бы вокруг ребенка и не относилась бы к нашему ведению. Но мы понимаем, что заниматься всем — это не заниматься ничем. Поэтому у нас есть определенные темы, на которых мы сфокусировались, и на основании этого у нас сложились четыре стратегических программы уполномоченного.
Одна касается помощи подросткам — вся инфраструктура для подростков, специалисты, сопровождение трудоустройства, открытие подростковых пространств и прочее. Мы понимаем, что подростки особая категория, и им требуются особые условия.
Второй блок — это работа с семьями, профилактика социального сиротства. Все, что возможно сделать на государственном уровне и на уровне общественных организаций для того, чтобы дети не попадали в дома ребенка и интернаты.
Третий блок — это программа «Сопровождение через всю жизнь», и она касается детей с инвалидностью и их семей. Как должны быть выстроены сервисы поддержки семьи для того, чтобы она смогла достойно продолжать воспитание ребенка с нарушениями здоровья.
И четвертая стратегическая программа касается безопасности детей — в интернете, в школе, на улице, создание условий для детей, безопасной инфраструктуры, и всего того, что касается дружелюбности и бережного отношения к детям.
И мы понимаем, что часто уполномоченные становятся последней надеждой, и очень трепетно относимся к обращениям, которые к нам поступают. Их очень много, и это составляет большой блок работ моего аппарата. За этот год к нам поступило более 11 тысяч обращений по совершенно разным проблемам, связанным с детьми. У нас существует классификатор законных прав и интересов детей — это 21 блок — по которому мы работаем вместе со всеми уполномоченными в регионах. Это такая стандартизация нашей работы.
Наша сила в том, что мы видим систему, картину в целом, и можем на нее влиять. Вот это ужасное слово «межвед» — это наше, потому что мы понимаем: какие-то полномочия есть у органов опеки, чем-то занимается МВД, в какой-то блок встраивается министерство здравоохранения, министерство просвещения. Увидеть в общем эту картинку, понять, где не хватает ресурсов, дополнительного законодательства, в каких вопросах нужно усилить работу, где нужны пилотные проекты — вот мы над этим работаем.
И, конечно, работа с регионами, работа на земле. Я из общественников, а общественников бывших не бывает. Моя любимая работа — именно выезды в регионы. Выезды в учреждения, когда мы занимаемся судьбами конкретных детей, когда в регионах реализуем разные пилоты, которые касаются, например, работы с суицидальным поведением детей или открытия центров дневного пребывания детей с инвалидностью, подростковых пространств и многого, многого другого. И, конечно, потом это становится уже системой, которая реализуется на территории всей России.
— Самая, скажем так, скандально известная область Вашей работы — это Ваша работа в зоне специальной военной операции на Украине, вас, как мы знаем, объявили самым страшным преступником всех времен и народов вместе с президентом. У нас в прошлом году линия фронта сместилась, и возникла ситуация, когда дети, эвакуированные из зоны боевых действий на нашей стороне, а родители – на украинской. Как проходит воссоединение семей, сама по себе эвакуация, в каком состоянии все это находится?
— Да, про демонизацию образа. Например, в Бельгии я теперь местная Баба Яга, мной пугают детей — что вот я прихожу в дома, забираю детей, и потом их расчленяю на органы, пью их кровь.

— Да, я читал про детские концлагеря Artek и Medvezhonok. А как в реальности дело обстоит?
— Конечно, никогда у нас не было никогда никакой насильственной депортации, не было никакого удержания детей. Есть четкая позиция Президента, которая говорит о том, что в случае, если на Украине или в других странах есть законные представители, родственники, родители, которые не ограничены или не лишены родительских прав, то в обязательном порядке мы должны содействовать тому, чтобы ребенок воссоединился со своими родителями. По этому принципу мы сейчас и действуем. Для этого разработан механизм. Налажено взаимодействие с международными организациями, в частности, с Международным комитетом Красного Креста — МККК, с гуманитарной миссией Маттео Дзуппи — это кардинал Ватикана.
Они являются фиксаторами того, что это реально происходит. Мы очень тесно сейчас работаем с Катаром — с его посольством, они тоже в это включаются. Нам важно показывать международной общественности, что это реально происходит. Поэтому, конечно, для нас эти посредники, наши партнеры играют очень важную функцию.
У нас выстроены гуманитарные коридоры через Беларусь, есть договоренность с Понгранкомитетом Республики. И если раньше через Украину в Беларусь нельзя было проехать, то сейчас со всем, что касается воссоединения, ситуация иная. В последнее время напрямую едут родители, родственники с Украины в Беларусь, и там мы их воссоединяем, или они приезжают на территорию России, когда это необходимо.
На самом деле, все должны понимать, что это иногда ситуации, которые связаны с семейными спорами. Когда дети находятся здесь не одни, а с бабушками, или с одним из родителей, тетями-дядями, или с законными представителями, а на той стороне находится, например, второй родитель, или родственники, которые хотят, чтобы ребенок с ними воссоединился.
Таких случаев немного. За все это время наш аппарат отработал таких 40 историй, 40 детей мы воссоединили с семьями (пока готовилось интервью, количество воссоединенных детей увеличилось до 48 — прим. ред.). В настоящий момент едут еще две мамы, и законный представитель по доверенности за восемью детьми, то есть, еще 8 ребятишек вернутся. Но они здесь находятся у бабушек. То есть, не то, что они приехали, и здесь в детских домах живут – воссоединились.
Есть ситуации, когда дети попадают в детские дома уже после приезда сюда с родителями. Например, мы помогали сестре воссоединиться со своими младшими сестрами, потому что мама, приехав сюда с двумя девочками, умерла от длительной болезни. Мы стали искать родственников, нашли сестру, и сестра сюда приехала.
Или другой случай, когда трое детей в Волгоградской области оказались в детском доме из-за того, что мама пропала без вести, она вела асоциальный образ жизни и пропала. Тоже с Украины. Они к нам приехали вначале в качестве переселенцев, потом остались у нас насовсем. Тоже нашли тетю, уже наладили контакты.
Самый скандальный случай, о котором часто рассказывают, был связан с изменением линии фронта в тот момент, когда большая часть детей уехала на отдых в Крым и Краснодарский край. Это дети из Харьковской области, Херсонской области, Запорожья. И часть родителей осталась на стороне Украины.
И, конечно, это усложнило перемещение детей, потому что мы не можем просто отправить детей на Украину без уверенности, что их там встретят родственники. Должны приехать законные представители, с документами, подтвердить свое родство и забрать ребенка. Но Украина мужчин призывного возраста не выпускает, женщины, у кого дети с инвалидностью, у кого другие дети — не могли выехать, плюс граница закрыта, и через Беларусь напрямую к нам было нельзя попасть. Соответственно, через несколько стран ехать — это большие затраты, не каждая семья могла это потянуть. Но мы понимали, что дети переживают, понимали, что переживают родители. У детей были телефоны, у всех была связь с родственниками, плюс, с ними же приехали их сопровождающие — на группу детей от каждого региона был сопровождающий, который тоже держал связь с родителями.
Мы живем в век информационных технологий, когда каждую ситуацию снимают на телефон, очень сложно что-то скрыть, тем более, когда дело касается тысяч детей, и очень сложно было бы скрыть издевательства, какие-то плохие условия. При всем желании такое скрыть невозможно было бы.
И когда мы подключились к этой ситуации — дети приехали осенью 2022 года, а мы подключились уже в январе 2023-го, на тот момент в лагерях осталось примерно 500 детей, и это были дети, у которых трудная ситуация, родители не могли забрать, или родители сами не хотели, потому что, например, были на передовой и говорили, что пусть они побудут в безопасности пока, а потом мы за ними приедем.
И мы в ручном режиме отрабатывали, подключая третьи страны, например, МККК помогал со странами Евросоюза. По поводу нескольких детей устанавливали контакты, чтобы родители могли приехать и забрать. В настоящий момент остался один мальчик, который сам изъявил желание — он уже взрослый, ему скоро 18 лет, и его родители подтверждают документально, что он хочет продолжить обучение в Крыму.
Эти нападки уже под собой никакого основания не имеют, но об этом говорят все, это нам вменяют в вину — после того, как мы приняли детей, находившихся под обстрелами, дали им возможность отдохнуть, получить новые знания, пообщаться со сверстниками. И потом мы сделали все для того, чтобы эти дети продолжили жить в безопасности, учиться в школе.

— А с детьми-сиротами как, их репатриируют, или они поступают под опеку, в приемные семьи?
— Тоже тема, которая вызывает особый интерес. Главы республик Донбасса обратились с просьбой эвакуировать детские учреждения, потому что они были под постоянным обстрелом, дети сидели в бомбоубежищах, и их попросили вывезти в безопасное место. Привезли их в разные регионы, распределили по учреждениям. Приехало около двух тысяч детей из детских домов.
Потом спустя какое-то время, когда республики стали уже частью РФ, было принято решение, что те дети, которые долгое время находятся в учреждениях, те дети, которые имеют статус детей-сирот или оставшихся без попечения, и самое главное, дети трудноустраиваемой категории, когда много братьев и сестер, когда есть среди этой большой семейной группы дети с инвалидностью — помочь им устроиться в наши приемные семьи в России.
Таким образом у нас 380 детей были переданы в семьи в 19 регионов России. Подчеркну, это дети, которые на протяжении 5-7 лет были в детском доме, это не дети, которые стали сиротами вчера, не дети, ставшие сиротами потому, что их родители погибли.
Это именно сироты, которые были там, и маловероятно, что их смогли бы взять на территории республик.
Это были совершенно потрясающие истории — была семья, например, пять детей с тугоухостью, представляете, пять братьев и сестер. И для таких детей мы нашли сразу три семьи в России, которые готовы их взять. Или семья из девяти детей. Девять человек, представляете? Их взяли в Подмосковье в большую семью. Самое главное, что не просто девять детей, так они еще и все были в разных учреждениях. И они в первый раз встретились, некоторые из них, в самолете, когда летели в свою семью. Они друг друга обрели и потом еще любящих родителей. Это на самом деле чудо, это вообще подвиг наших людей, русских, которые взяли этих детей и воспитывают их.
Мы на протяжении всего этого времени, уже почти два года, отслеживаем ситуацию, как детям в семьях. Приезжая в регионы, я обязательно их навещаю. Сейчас лечу в Тюменскую область, и там вместе с губернатором навещу семью, которая как раз взяла пятерых детей с тугоухостью. Посмотрим, как у них жизнь обстоит.
— Возвращаясь к вопросам уже не военным. В одном из прошлых интервью Вы говорили о большой очереди среди детей-сирот на получение полагающегося жилья. Что с тех пор изменилось?
— Проблему обозначают практически все губернаторы, когда я приезжаю. Это связано где-то с нехваткой денег, потому что это в основном региональные бюджеты. Очереди большие.
Закрыть сразу тысячу квартир — вы понимаете, что для какого-то дотационного региона это практически невозможно. Где-то есть проблемы, связанные или с полным отсутствием строительства, или это строительство ведется слабо.
Что сейчас должно помочь? В настоящий момент около 200 тысяч детей — вернее, уже не детей, а выпускников учреждений — стоят на очереди на получение жилья. Очередь, конечно, сокращается, но все равно не так быстро, как хотелось бы. И здесь хорошим подспорьем должны стать сертификаты.
Президент подписал закон, который позволит детям после 23 лет — молодым взрослым уже — выпускникам учреждений, сиротам, получать сертификаты на приобретение жилья. Как сейчас обстоит дело: молодому человеку дают квартиру, 5 лет она находится в собственности региона как жилье социального найма, потом после пяти лет этот молодой человек, если он нормально содержал жилье, своевременно оплачивал коммунальные платежи, не нарушал никаких правил эксплуатации, он может эту квартиру перевести на договор социального найма и далее приватизировать. Это было сделано с целью уберечь ребят от мошенников, потому что мы знаем, что часто они пользуются плохой социализацией этих ребят, и выкупают за какие-то копейки или обманывают — такие серые схемы мы постоянно отслеживали.
А теперь сертификаты позволят молодым людям самостоятельно принимать решение, какой площади квартиру купить, в каком районе региона ее приобрести, взять ипотеку и купить уже более просторное жилье, чем положенную однокомнатную квартиру. Также есть возможность добавить материнский капитал к сертификату при покупке жилья. Поэтому сертификаты сейчас должны сделать этот процесс проще, быстрее, и, конечно, удобнее для ребят.
— Хронический, больной у нас вопрос — расселение детских домов.
— За последние годы количество детей в учреждениях сократилось практически на 70%. Чаще всего дети, находящиеся сейчас в учреждениях, относятся к наиболее трудно устраиваемой в семьи категории. Конечно, маленьких и здоровых детей тут же забирают под опеку и усыновление, и по договору о приемной семье.
В учреждениях остаются подростки, дети с инвалидностью, причем с глубокой, и большие семейные группы (5 и более братьев и сестер) — согласно требованиям законодательства мы не можем их разлучать. Для попадания в семьи этих групп детей требуются дополнительные усилия. И разумеется, нужно сопровождать и поддерживать семьи, принявшие таких детей.
На самом деле, это очень сложный процесс, особенно что касается подростков. Здесь я как мама пяти приемных подростков могу точно сказать, что это очень сложная категория ребят. Подростковый возраст вообще сложный, а если еще было нахождение в учреждении… Поэтому требуются дополнительные меры, чтобы помочь.
Но есть еще два момента, которые я бы хотела обозначить. Первый — это помощь семьям. Наша задача сейчас переориентироваться с учреждений на помощь семье, чтобы дети не попадали в учреждения, чтобы дети могли воспитываться в своих кровных семьях. Наша стратегическая программа «Дети в семье» нацелена на то, чтобы мы могли усилить разные формы поддержки семьи. Чтобы у нас были не только психологическая помощь и профилактическая беседа. Мы сейчас с командой сформировали комплекс из 123 мер, которые можно в качестве поддержки дать семье. Это реальные меры, которые существуют на федеральном уровне, я уже не беру региональные меры поддержки.
— Например?
— Например, лечение алкозависимых родителей. Помощь в трудоустройстве мамы. Работа специалистов разного профиля, от коррекционного педагога до психиатра, и прочие вещи. И они касаются всех сфер, как помощи родителям, так и помощи детям. Потому что мы понимаем, что иногда сиротство связано с инвалидностью ребенка, и с тем, что родители просто не справляются. И таким образом поддержка семьи важна сейчас.
Но есть еще один важный момент, который касается сотрудников учреждений. Мы эту проблему выявили, когда стали по поручению президента заниматься малышами в домах ребенка. То есть, Владимир Владимирович сказал, мол, давай сфокусируемся на малышах. Они же в принципе не могут быть без значимого взрослого, они физически не могут развиваться. Это доказано уже огромным количеством научных исследований: если ребенок больше недели находится в состоянии, когда у него нет значимого взрослого, когда меняются няни и прочий персонал, то ребенок впадает в серьезное состояние, когда тормозится его физическое, эмоциональное, психологическое развитие.
И вот решили заняться малышами. Взяли 14 пилотных регионов, где прямо фокусировались на малышах в домах ребенка. И поняли, что часто эти учреждения являются градообразующими. В селе там работает все село. И естественно, что, когда сокращается количество детей, для них это страх потерять работу. И конечно, делается все, чтобы этих детей там удержать.
И тут мы придумали такую вещь, как переформатирование учреждений, когда мы из дома ребенка делаем ясли до года. Или центры дневного пребывания — там можно ребенка с инвалидностью на 2-3 часа оставить, и у мамы появляется свободное время. Или социальный садик, где ребенка на пятидневку можно оставить, но на выходные он будет с мамой и папой. И тогда у людей меняется сознание, потому что «мы все равно нужны, мы продолжаем работать, и наш KPI — не то, чтобы у нас было определенное количество детей, а мы оказываем услуги семье, чтобы ребенок был в семье».
Это изменение сознания очень нам трудно далось, это два года моих поездок по регионам. Вплоть до того, что у меня с совещаний уходили директора домов ребенка с таким негативом — вы нас хотите закрыть, вы хотите сломать систему.
Я говорю: мы не ломаем систему, мы ее перестраиваем. Конечно, это очень сложно, потому что десятилетиями все складывалось, и всегда у нас все новое сложно воспринимается.
— Вопрос от профессиональной приемной мамы: по ее словам, в их кругу давно ходят разговоры о принятии закона или положения о том, чтобы малышей-отказников сразу передавали в приемные семьи без помещения в систему надзора.
— Механика сейчас меняется, но раньше это было так. Ребенка выявили в ситуации безнадзорности. Приехали из опеки, а там пьяные родители и ребенок ползает. Его забирают, везут в больницу, в инфекционный бокс, где он находится длительный период времени.
Думаю, вы часто видели в социальных сетях такие истории, что малыш один в боксе, какая-нибудь сердобольная мама из соседней палаты снимает, что ребенок один лежит. Вот это как раз наши безнадзорные дети. Или мама отказалась при рождении, и ребенок находится длительное время в больнице. И эти сроки никак не были ограничены: дети могли месяцами жить в больнице. Вы понимаете, насколько это ужасно с точки зрения этики, внимательного, бережного отношения к ребенку? Безусловно, это неподобающе.
Поэтому сейчас в ряде регионов приняты алгоритмы перемещения детей в ситуацию безнадзорности, которые исключают больницу как таковую, и туда детей везут только в случае, если требуется медицинская помощь — например, острое респираторное заболевание, или какие-то травмы — ушибы, переломы после избиений — такое тоже случается. Конечно, тогда больницу мы исключить не можем.
Мы сейчас активно этим занимаемся, это один из главных моих фокусов внимания. И, например, в Москве сейчас уникально это отрабатывают. Когда мы на это обратили внимание, три с половиной тысячи детей в год проходили через больницу. За год практически свели до минимума, и придумали невероятную вещь, когда, например, выявив ребенка, МВД в течение трех часов дает данные о родственниках этого ребенка, чтобы везти не в больницу, не в социальные учреждения, а сразу передавать родственникам этого ребенка до выяснения обстоятельств и определения его дальнейшего устройства.
Сейчас мы стараемся, чтобы дети сразу попадали в социально-реабилитационные центры. Понятно, что мы должны выяснить, что с их здоровьем. И не можем сразу в общую группу поместить в интересах их безопасности, но по крайней мере, мы понимаем, что там есть психологи, люди, которые поддержат, помогут.
А что касается передачи сразу в приёмные семьи, не всегда мы быстро понимаем, какой статус у ребенка. Например, если с мамой что-то случилось, ее увезли в больницу, мы же не можем сходу в приёмную семью передать. С мамой же нужно разобраться, со статусом ребенка нужно разобраться.
Мы очень активно сейчас предлагаем использовать предварительную опеку, которая позволяет без попадания ребенка в учреждение сразу передать его в семью родственника. Не требуется дополнительных документов, нужен только акт обследования жилья и паспорт заявителя, который готов принять ребенка под временный присмотр для ухода за ним.
Поэтому — предварительная опека и алгоритм перемещения детей в ситуации безнадзорности.

— У нас в стране противоречивая ситуация с домашним насилием. Несколько лет назад декриминализовали побои, при этом были попытки принять отдельный закон о борьбе с домашним насилием. Стоит ли такой закон все-таки доработать и принять, и что требуется, чтобы домашний бокс исключить из нашей жизни?
— «Домашний бокс» — страшное выражение, на самом деле. Что касается закона, мы практики, институт уполномоченных — это команда практиков. Законодательные инициативы — только одна из возможных форм помощи. Поэтому я буду сейчас говорить в плоскости помощи семье как таковой.
Во-первых, сейчас активно развиваются кризисные центры для женщин, возможности психологических служб в регионах, когда есть возможность обратиться за помощью и эту помощь получить. Второй момент — работа с семьей — всегда очень бережная, аккуратная, с уважением к семье. Мы недавно проводили большой форум в Кирове, который назывался «Жить и воспитываться семье», и наша основная задача была — определить, какими мерами мы можем дополнить помощь семье, чтобы ребенок не попадал в учреждение.
И интересный момент, на котором остановились, и с которым плотно работали — это работа с алко- и наркозависимыми родителями. Раньше эта тема была табуирована, на этих родителей сразу ставили клеймо, если понимали, что есть зависимость. Перспектив никаких, забираем ребенка, лишаем родительских прав, ребенок — в детском доме.
Сейчас появилось много форм работы с такими родителями, и мы со своей стороны это активно развиваем. Это не только медицинская реабилитация, но и социальная. Это возможность полустационаров, когда днем родители получают помощь, а вечером могут быть с ребенком. В некоторых регионах уже есть реабилитационные центры, где уже социальную реабилитацию проходят, где можно находиться вместе с ребенком.
Сейчас много разных инициатив — они, может, не такие масштабные как хотелось бы, но институт уполномоченных это уже продвигает, и на будущий год один из векторов нашей работы — работа по расширению сервисов помощи родителям с алко- и наркозависимостью.
Мы понимаем, что невмешательство в семью, с одной стороны, может привести к трагедии с ребенком, и мы знаем такие случаи. А с другой стороны — вмешательство в семью, неуважительное отношение, заход в грязных сапогах, когда приходят органы профилактики, которые должны помогать семье. Это ведь не карательные органы, это не проверяющие органы. Они называются органами системы профилактики — органы опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Но они все чаще и чаще применяют карательные функции, когда проверяют, что в холодильнике, начинают неуважительно общаться с мамой.
Работа с мамой иногда выглядит как какой-то суд, когда комиссия начинает ее отчитывать, да ты такая-сякая. Здесь очень важно, чтобы мы меняли это отношение на уважительное, бережное отношение к семье, на помощь семье, на систему поддерживающих сервисов. И тогда, я уверена, что насилия в семье будет гораздо меньше.
— Тоже традиционная проблема — огромное количество народу с долгами по алиментам. Причем существует огромная латентность, когда формально заявления нет, но фактически отец растворяется в небытии, никак не участвует в жизни ребенка и ничего не платит. С другой стороны, нет контроля над тем, как расходуются средства, когда алименты платятся, бывает, что матери препятствуют общению с отцов с детьми.
— Что касается алиментов, здесь постепенно, конечно, меры по взысканию алиментов стандартизируются, качественно улучшаются. Сейчас, например, есть ограничения по выезду за границу должников, ограничение на право управления транспортным средством.
Но что мы видим — скрывают имущество, занижают заработную плату, тем самым занижая алименты. И здесь, мне кажется, важным моментом является популяризация в принципе выплат алиментов — ты отец, ты мама, ты обязан содержать своего ребенка. Ты обязан вкладываться в его взросление, развитие, становление.
Это должно быть модным, если хотите, потому что сейчас мы видим, как человек приходит на работу и говорит, мол, я алиментщик, давайте мне белую зарплату поменьше, серую побольше. И работодатели на это идут, и этого в принципе не должно быть. Мы должны понимать, что, если приходит человек, у которого есть алиментные обязательства, он должен исполнять их в полном объеме, и это нормально, так должно быть.
Еще один важный момент — это выявление наличия имущества у должника с целью взыскания алиментных долгов. Часто имущество, недвижимость и машины записывают на родственников и третьих лиц, чтобы просто они не учитывались в общем объеме имущества, на которое возможно обратить взыскание по исполнительному производству.
Есть тема и с расходованием алиментов. К нам поступают обращения от добросовестных родителей, которые не уверены, что средства идут именно на ребенка. Они говорят о введении отчетности по алиментам. Повысит ли прозрачность трат долю выплачиваемых алиментов? Вопрос для размышления.
Что касается ситуаций семейных споров, как мы их называем, в отношении определения места жительства ребенка с одним или с другим родителем, общения ребенка с обоими родителями и иными близкими родственниками, это, конечно, страшно, когда мы видим, что дети становятся заложниками ситуации, когда ими спекулируют, чтобы отомстить второму супругу.
И тут очень важен такой инструмент как медиация — лучше досудебная — когда есть возможность договориться. Потому что сейчас мы видим, как суд выносит решение об определении места жительства ребенка, о времени общения второго родителя — но это решение не исполняется, и очень сложно добиться, чтобы судебное решение было исполнено, потому что тут ребенок, мы не можем каких-то жестких действий предпринимать. Один родитель, удерживая ребенка говорит, что ребенок не хочет разговаривать со вторым — с папой, например, и накручивает его, ежедневно находясь с ним.
Конечно, психологически ребенок очень сильно страдает. И тут важно, чтобы мы его все-таки из этой борьбы исключили. Досудебная медиация позволяет договориться, разрешить конфликтные ситуации между родителями, которые, быть может, не связаны абсолютно с ребенком, и помочь выстроить конструктивное общение в интересах ребенка.
— Я бы хотел отдельно поговорить о ситуации, когда отец алименты не платят, а мать замотанная, заморенная, и она не пытается взыскать алименты. Что с этим можно сделать в принципе?
— К нам поступают обращения, которые как раз связаны с имущественными правами, с невыплатой алиментов. Мы на своей площадке сейчас создали специальную рабочую группу по имущественным правам несовершеннолетних, которая в том числе занимается алиментами, жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможностями использования материнского капитала. Много разных вопросов. В эту рабочую группу входят сенаторы, депутаты, юристы, общественные деятели, нотариусы, региональные уполномоченные, которые пытаются сейчас найти конкретные решения. При успешном использовании на региональном уровне они будут включены в федеральное законодательство и помогут урегулировать систему.
Но пока это все в ручном режиме, важно, чтобы матери понимали, что это право, в первую очередь, ребенка получать содержание от родителей. Взыскание алиментов, в том числе, в какой-то мере защита в будущем от алиментов, которые могут взыскать родители со взрослого ребенка. А если они своего ребенка в детстве не содержали, то не смогут иметь такое право. И зачастую все зависит от личности судебного пристава, отнесется ли он к этому с вниманием, а не формально, и будет ли искать этого должника, и будет ли пытаться с этим должником как-то отработать. Но хочется верить, что постепенно все выправится — мы видим, что ситуация реально меняется, сокращается количество долгов, сокращается количество исков, связанных с неуплатой алиментов. Кроме того, сейчас выплаты на детей со стороны государства возможны, только если будет подтверждение о доходах семьи, в том числе рассматривается взысканы ли алименты с отдельно проживающего родителя. Поэтому будем двигаться дальше.
— Снова вопрос со стороны. Существует мнение, что опыт закрытия специализированных школ для детей с нарушениями (интеллекта, речи и т. д.) был непродуманным, и в итоге детей просто пихают без поддержки ребенка и педагога в обычные классы.
— Конечно, есть большая группа детей, которым все-таки показана коррекционная школа, где для них созданы все условия, а их нахождение в общих классах ведет к серьезным психологическим травмам у ребенка. Поэтому важно коррекционные классы оставлять. Может быть, не школы, но классы, как в ряде регионов и делают. Но мне кажется, нам нужно двигаться в сторону вариативности, когда не всех собирают в коррекционные школы и классы, а все-таки смотреть, насколько возможности каждого конкретного ребенка подходят под тот или иной формат образования. Кого-то направлять в коррекционные классы, кого-то — в классы с тьюторами. Где-то у нас есть смешанные классы.
Последний случай, где мы помогли — обратилась мама девочки-второклассницы на коляске, с ДЦП. Мы понимаем, что никаких отклонений, связанных с умственными способностями, нет — только с передвижением. И девочка не может обучаться в школе, потому что ее на руках носят на второй-третий этаж в классы, не оборудованы туалеты. Но мы вмешались, перенесли ее класс на первый этаж, помогли с документами для того, чтобы появился подъемник в школе. Здесь все-таки история про уважительное отношение к семьям с такими детьми и к самим детям. Это точно должно распространяться в наших школах, это то, что должно быть в фокусе внимания директоров школ, и в ряде случаев это можно совершенно спокойно организовать без каких-то дополнительных усилий, привлечения средств — вот как в данном случае, просто перенесли класс со второго этажа на первый. И ребенок нормально учится, вместо домашнего обучения, которое предлагали — а мы понимаем, что этим детям тоже очень важна социализация, очень важно общение со сверстниками. И в эту сторону мы все-таки должны двигаться, и минимизировать нахождение детей на домашнем обучении, на дистанционном обучении в случае, если это связано с их инвалидностью.
И тут еще вопрос медицины в школе. Например, дети с диабетом должны постоянно получать инсулин, и это медицинская процедура, которая зачастую невозможна в школе, потому что нет медицинского кабинета. И родители не могут работать, они дежурят внизу, в холле, чуть ли не в туалете они инсулин колют детям. Такого быть в принципе не должно, и мы сейчас нашим институтом уполномоченных активно работаем над тем, чтобы медицинская помощь в том или ином формате появилась в каждой школе.

— Есть ли перспективы построения общенациональной системы ранней помощи таким детям?
— Очень важно, чтобы мы подключались в момент сообщения диагноза. И мы сейчас в ряде регионов реализуем пилот — протокол информирования родителей о диагнозе и о мерах поддержки, как государственных, так и общественных. Как сообщить маме, что родился ребенок с отклонениями, патологиями, заболеваниями. Как это сделать грамотно и корректно. Это было продиктовано тем, что когда мы приезжаем, например, в дома ребенка, видим там детей с синдромом Дауна. Начинаем разбираться, почему так, общаясь с родителями — выясняется, что в роддоме, например, сказали: «Да ладно, родишь себе еще». Или не объясняют ничего, или не дают никакого контакта с кем-то, кто смог бы объяснить, как с этим жить.
Или наша последняя ситуация, когда мы в доме ребенка в приемном отделении увидели малыша, и выяснилось, что мама только что передала его в учреждение. Маму вернули, стали общаться, и она говорит, мол, я родила неведому зверушку. Мама благополучная, а «неведома зверушка» — оказалось, девочка, у которой просто нет ушной раковины. Но сейчас, в современной России, ушную раковину сделать просто, какую хочешь. И когда стали разговаривать с мамой, ей говорят: да хотите, мы ей вообще эльфийское ушко сделаем.
Или была у девочки операция на сердце, вывели гастростому, трубку, и не объяснили, что это такое — «Вон, еще и из живота трубка какая-то торчит». Это про отношение, как можно сообщить диагноз, как можно объяснить, что происходит с ребенком, уважительно и бережно, чтобы ребенок не попал в учреждение.
Дальше мы понимаем насчет ранней помощи, что часть каких-то моментов у ребенка можно компенсировать, и важно над этим работать. Сейчас у нас появился алгоритм оказания ранней помощи, и в ряде регионов он существует, когда ребенка прямо с рождения наблюдают в разных центрах: и со стороны медицины, и с точки зрения адаптации этого ребенка, и коммуникации с ребенком обучаются родители. Выстраивается система.
Мы со своей стороны сейчас открываем центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, где ребенок может находиться в течение нескольких часов со специалистами, среди своих сверстников, а у родителей появляется свободное время для решения своих задач, вопросов, да и просто они могут выдохнуть и восстановиться для дальнейшего воспитания ребенка.
Также мы работаем над темой ментального здоровья, одноименный проект реализуется в Приволжском федеральном округе, и он касается помощи детям с ментальными нарушениями, особенно расстройствами аутистического спектра, и здесь все, что связано с ранней помощью, с обучением в школе — весь этот комплекс сопровождения.
Для родителей, которые воспитывают таких детей, самый сложный вопрос всегда — «Что будет, когда меня не станет, куда ребенок попадет?». И для того, чтобы родители не боялись, что ребенок после 18 лет сможет жить полной жизнью, учиться, работать, жить в нормальных условиях, мы сейчас развиваем сопровождаемое проживание для молодых ребят с инвалидностью.
— У нас статистически весьма немало детских и подростковых самоубийств. Существует ли какая-то центральная служба поддержки для таких детей? Как выявить, что ребенок собирается в петлю, и что делать, чтобы он туда не полез?
— Этот вопрос мы прорабатываем по поручению Президента. Сейчас при Госсовете создана подкомиссия по таким проявлениям у подростков, детей. И в нее входят и разные профильные ведомства, и психологи, научное сообщество, некоммерческие организации.
Наша задача, во-первых, выработать единые подходы в работе с суицидами. Мы, знаете, всегда такую параллель проводим: когда происходит крушение самолета, приезжает международная комиссия, которая разбирается в причинно-следственных связях и отрабатывает, чтобы такого больше не произошло. И наша задача сейчас — на конкретных примерах, когда были попытки суицида или уже законченный суицид, отрабатывать, чтобы дальше этого не произошло, потому что были прецеденты, например, когда в одном селе за месяц было совершено четыре самоубийства. И только после третьего самоубийства туда приехала большая команда из региона, которая начала отрабатывать. Но так же не должно быть. Самоубийство произошло — сразу выезжаем, отрабатываем, в том числе, чтобы предотвратить последующие жертвы.
И здесь очень важно не только отработать с ребенком и его близкими, но это и третичная профилактика: его одноклассники, его учителя, потому что мы не знаем, как это дальше нам аукнется. И вот это развитие суицидальной настороженности: если ребенок просто вскользь об этом заявил, мы должны понимать, что это потенциальная угроза. И нам нужно начинать работать с ребенком, как только он об этом сказал. Просто так дети об этом не говорят. Это сигнал, что с ребенком что-то не то, и что нам надо включаться в поддержку и помощь ему. По статистике, в 90% случаев окружение сверстников так или иначе знало о желании или о каких-то высказываниях своего друга, одноклассника по поводу суицида.
Здесь еще про то, как можно сообщить. Мы знаем, что, если мне помощь нужна, я могу обратиться в одно, в другое место. А здесь ты вроде бы выдашь тайну. И нужно объяснять детям, что мы не можем это замалчивать, что нужно об этом сразу говорить, что это ситуация, когда вот прямо срочно надо помочь этому ребенку.
И наша подкомиссия сейчас занимается выработкой единой статистики по кризисным состояниям детей, потому что у СК своя статистика, у Минздрава своя. По-разному оценивается. Потом — единая терминология, которая как раз поможет определять эту статистику: что такое суицидальная попытка, что такое самоповреждающее поведение, что такое оконченный суицид, и в какой момент мы можем считать. Третье — это алгоритм работы с суицидальным поведением, и комплекс мер региональный по работе с суицидальным поведением, и уже оконченными суицидами.
— Чего вам не хватает как омбудсмену, что бы вы хотели добавить для себя?
— Очень важно обобщить все то, что есть в сфере поддержки детей. Максимально это транслировать, чтобы регионы обменивались опытом, чтобы они понимали, что по одному или другому направлению мы можем использовать для работы с детьми, какой интересный опыт есть в соседних регионах. Особо, наверное, отмечу единую координацию в регионах по детской тематике, поскольку сейчас мы видим, что это все разрозненно.
А что касается меня, то очень хочется чуть больше времени. Чтобы успеть больше, чтобы помочь большему количеству детей, чтобы постараться помочь и поддержать, когда ребенку это особенно нужно.
Теги: